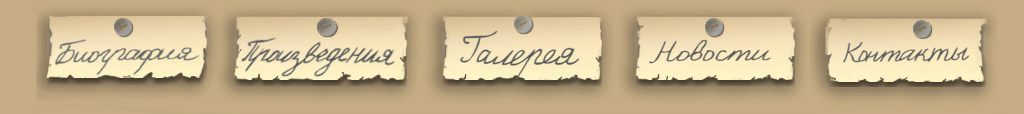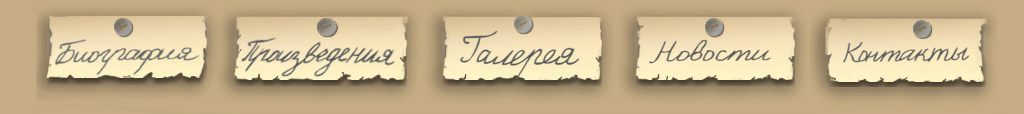|
КАШГАРСКИЕ ПИСЬМА ЛАВРА КОРНИЛОВА
- 6 -
«Глубоким пониманием Азии» сам Корнилов, скорее, не обладал; такое понимание предполагает отстраненность, и чем глубже оно, тем отрыв значительнее. Уроженец Сибири с долею азиатской крови, что отражалось и на его внешности, обходясь без переводчика в любом закоулке Туркестана, Лавр Георгиевич Азию воспринимал как воздух, которым дышим. Замечательная удачливость его предерзких закордонных разведок обязана была, конечно, и этому немаловажному дополнению к его образцовой выдержке и виртуозным расчетам. Знал бы консул, как изящно и лихо фотографировал капитан Корнилов новую афганскую крепость Ислам-Абад незадолго перед командировкой в Кашгарию! Крепость запирала вход в ущелье реки Балх (Дергез), по которому разрабатывалась дорога на Кабул, а в скальных хранилищах размещались военные склады; от пограничной Аму-Дарьи до крепости — 80 верст открытой равнины.

А.Е. Снесарев и его жена Е.В. Зайцeва. 1904 год.
|
«План мой заключался в следующем: переодевшись туркменом, скрытно пройти у Чушка-Гузара линию афганских пограничных постов, далее же идти совершенно свободно, днем — на Балх, Дейдади, Тахтапуль, Мазар-и-Шериф и через Сиягырт вернуться в Патта-Гиссар» (Из отчета Л.Г. Корнилова).
Временем для рейда был выбран магометанский пост Ураза, когда мусульмане днем почти не ездят, и момент смены двух туркменских сотен в крепости, когда сменщики-новички еще не узнаются в лицо старожилами гарнизона.
«...В ночь с 12 на 13 января мы переправились через Аму-Дарью на гупсарах (бурдюках) в кишлак Шор-Тепе. В последнем Худай-Назаром заблаговременно подготовлены были лошади».
|
Корнилову с его спутником-туркменом в этой двухсуточной бессонной поездке встретилось десятка полтора мусульман, Корнилова не отличили от туркмена-проводника ни смотритель караван-сарая в Балхе, ни чайханщик в кишлаке Дейдади, за нукеров сменной сотни приняли их солдаты гарнизона и даже офицер. Корнилов «маленькой камерой» сделал шесть фотоснимков крепости и казарм.
Порывистый по натуре, Лавр Георгиевич умел подчинить себя службе, умел выдерживать роль. Слабой струной, болевою точкой этого бойца была его вера и верность слову. Простирающаяся до щепетильности, до запальчивости верность живому сердечному слову толкала его на излишнюю прямолинейность, на неуклюжести; между людей упорядоченных он мог прослыть навязчивым и бестактным.
А отношение Петровского к Сарыколу — после стольких задушевных согласных бесед! — вдруг отчего-то переменилось. Объясниться с Корниловым начистоту он не захотел. Быть может, учуял в нем рокового неудачника на политико-дипломатическом поприще? Или того хуже, приревновал армейского ваню из сибирячков, желающего сесть не в свои сани? Николай Федорович в китайской глухомани к тишине привык. А тут — целый крестовый поход, по-русски гомонливый и длящийся бесконечно! С обеих сторон заработали «пункты» инструкций, вызывая отчуждение. В одном Петровский был прав несомненно: судьбы Сарыкола никоим образом компетенции капитана Корнилова не подлежали.
Но в кашгарских письмах Лавра Георгиевича, переполненных Сарыколом, джигитами и частностями буден, внятных следов других его занятий нет, лишь два-три слова косвенно или вскользь:
«Почтеннейший Н.Ф. засыпал Штаб мольбами на меня. Теперь жалуется, что я оказался неблагодарным — пользовался его библиотекой, разведчиками и его личными сведениям, — а начальство мое упрекает его в несочувствии к пребыванию в Кашгаре офицеров» (11 января 1901 года). «…мотивируя… окончанием возложенных на меня работ» (25 мая 1901 года).
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НА ГЛАВНУЮ
|
|